Фото воспитанников А. С. Макаренко
Формат .PDF
1.7 Мб
Скачать«Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного» — эта мысль стала сердцевиной педагогической философии Антона Макаренко.

В отличие от теоретиков-современников, которые спорили о врождённых способностях и влиянии среды, Макаренко создал нечто принципиально новое: педагогику второго рождения человека.
Центральная идея Макаренко — теория «педагогического взрыва». Он считал, что подлинное изменение личности происходит не постепенно, через медленное накопление знаний и навыков, а в критические моменты, когда человек оказывается перед необходимостью мгновенного выбора между прошлым и будущим.
В «Педагогической поэме» мы видим, как работает этот принцип. Когда колонист Задоров получает пощёчину за отказ работать, происходит не столько наказание, а именно «взрыв» — момент, когда все прежние отношения разрушаются, и на их месте мгновенно возникают новые. Задоров понимает: перед ним не просто разгневанный начальник, а человек, который страдает за его судьбу сильнее, чем он сам.
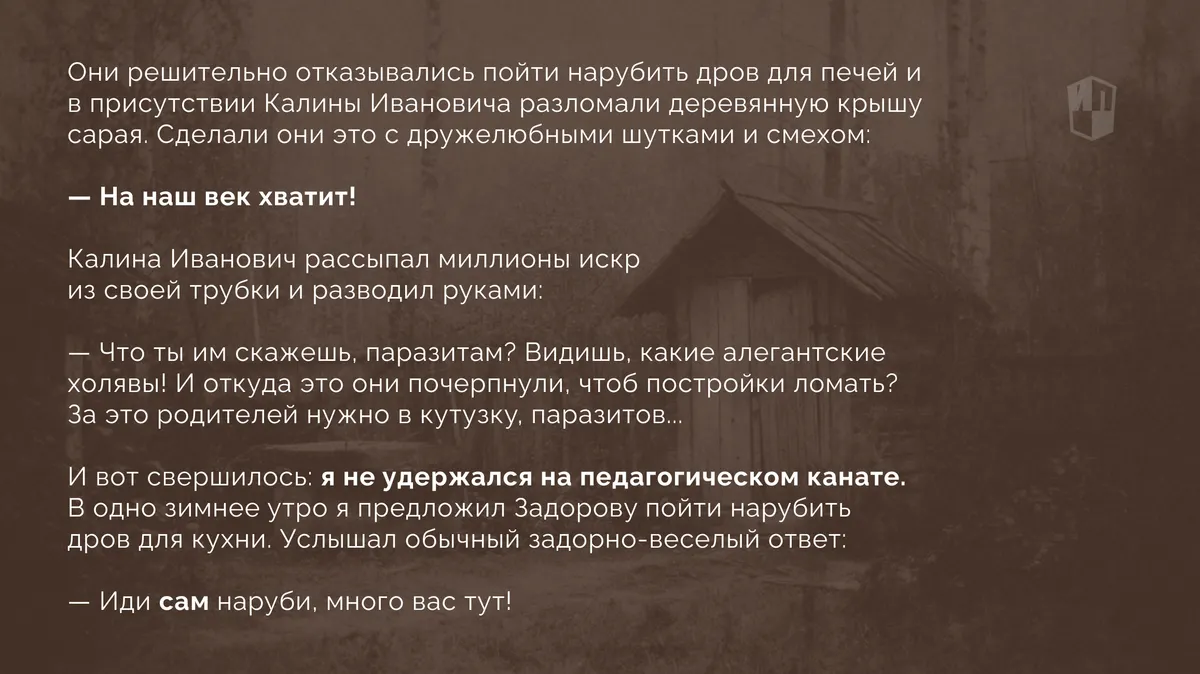
Фрагмент из «Педагогической поэмы»
Это впервые ко мне обратились на «ты».
В состоянии гнева и обиды, доведённый до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.
Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял её и снова надел. Я, вероятно, ещё бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:
— Простите, Антон Семёнович...
Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня — я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.
Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати:
— Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чёртовой матери!
И вышел из спальни.
«Взрыв» у Макаренко — это доведение конфликта до последнего предела, когда невозможна никакая эволюция, никакие компромиссы. Либо человек остается членом коллектива на новых условиях, либо уходит навсегда. Это педагогика ультиматумов, но ультиматумов, продиктованных любовью и верой в человека.
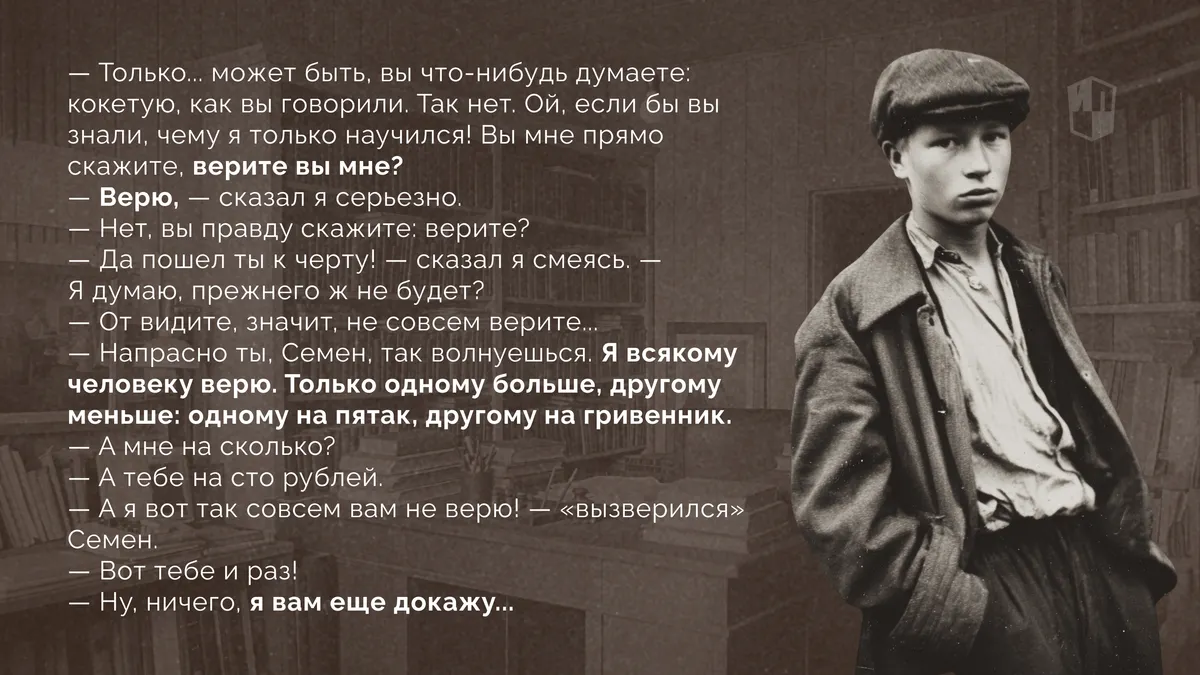
Фрагмент из «Педагогической поэмы»
Макаренко первым в мировой педагогике поставил коллектив в центр воспитательного процесса. Но его коллектив принципиально отличается от безликой массы или механического объединения людей. Это живая система со сложной внутренней структурой, традициями и перспективами.
Секрет макаренковского коллектива — в системе самоуправления. Колонисты делились на отряды по 10-12 человек, каждый отряд выбирал командира. Командиры образовывали совет, который решал важнейшие вопросы. При этом сам Макаренко добровольно связал себя обязательством подчиняться решениям коллектива.
Система отрядов окончательно выработалась к весне. Отряды стали мельче и заключали в себе идею распределения колонистов по мастерским. Я помню, что сапожники всегда носили номер первый, кузнецы — шестой, конюхи — второй, свинари — десятый. Сначала у нас не было никакой конституции. Командиры назначались мною, но к весне чаще и чаще я стал собирать совещание командиров, которому скоро ребята присвоили новое и более красивое название: «совет командиров».
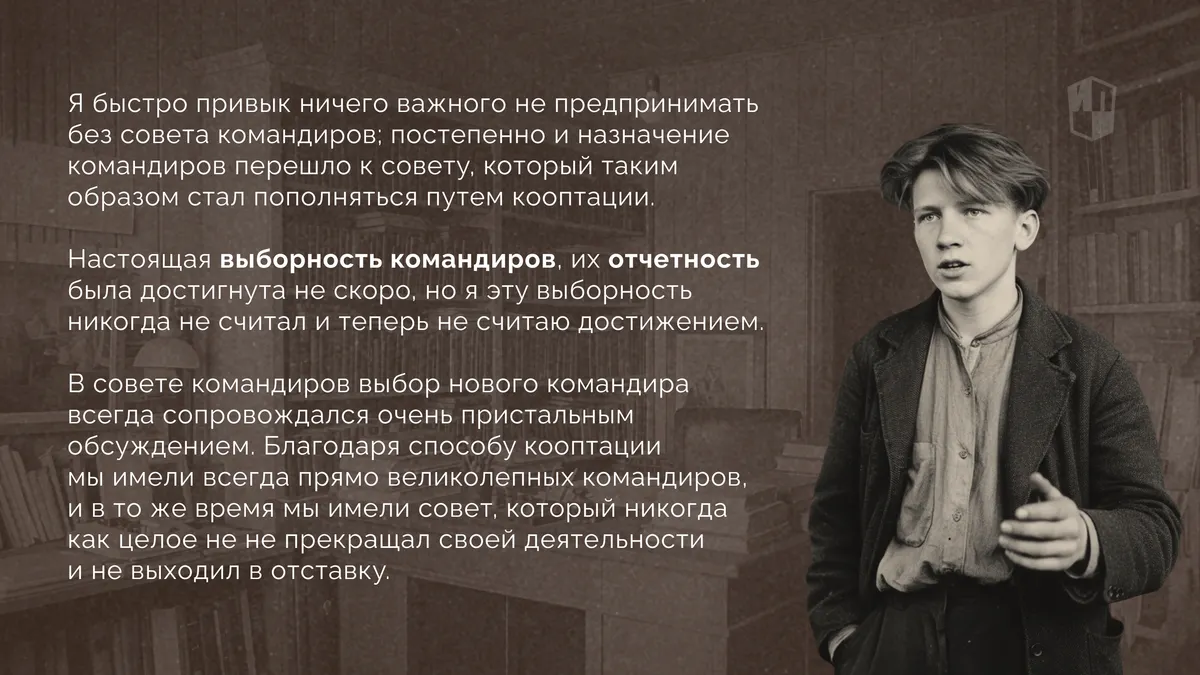
Фрагмент из «Педагогической поэмы»
Очень важным правилом, сохранившимся до сегодняшнего дня, было полное запрещение каких бы то ни было привилегий для командира; он никогда не получал ничего дополнительно и никогда не освобождался от работы.
Эта система работала, потому что в её основе лежал принцип ответственности. Каждый колонист был одновременно и руководителем, и подчинённым. Сегодня ты командир отряда, завтра — рядовой боец. Так рождалось понимание: власть — не привилегия, а служба.
Для Макаренко труд не был просто средством обучения профессии. Труд формировал характер, отношение к жизни, систему ценностей. Но какой именно труд? Обязательно производительный, нужный обществу, дающий конкретные результаты.
В Дзержинской коммуне колонисты не просто «учились работать» — они производили электродрели и фотоаппараты, которые шли на советские заводы. К 1930 году доходы коммуны полностью покрывали все расходы на питание, образование и даже стипендии выпускников в вузах. Бывшие беспризорники содержали сами себя и финансировали собственное будущее.
Макаренко понимал: труд воспитывает только тогда, когда он сочетается с высокой технической культурой, современной организацией и ясной социальной перспективой. «Колонисты должны знать, что их электродрели пойдут на заводы, которые производят машины для всей страны», — объяснял он смысл своей педагогики.


Фото воспитанников А. С. Макаренко
Формат .PDF
1.7 Мб
СкачатьЗнаменитая формула Макаренко: «Как можно больше требований к человеку и как можно больше уважения к нему» — звучит парадоксально. Как это возможно: одновременно требовать и уважать? Разгадка — в понимании природы этих требований.
Макаренко требовал не слепого послушания, а активности, творчества, ответственности. Его требования возвышали человека, а не принижали. Когда он поручает бывшему вору Карабанову получить несколько тысяч рублей, это не столько проверка честности, сколько акт доверия, который окончательно освобождает человека от прошлого.
Привезя деньги, он пристал ко мне:
— Посчитайте.
— Зачем?
— Посчитайте, я вас прошу!
— Да ведь ты считал?
— Посчитайте, я вам кажу.
— Отстань!
Он схватил себя за горло, как будто его что-то душило, потом рванул воротник и зашатался.
— Вы надо мною издеваетесь! Не может быть, чтобы вы мне так доверяли. Не может быть! Чуете? Не может быть! Вы нарочно рискуете, я знаю, нарочно...
Он задохнулся и сел на стул.
— Мне приходится дорого платить за твою услугу.
— Чем платить? — рванулся Семён.
— А вот наблюдать твою истерику.
Семён схватился за подоконник и прорычал:
— Антон Семёнович!
— Ну, чего ты? — уже немного испугался я.
— Если бы вы знали! Если бы вы только знали! Я ото дорогою скакав и думаю: хоть бы бог был на свете. Хоть бы бог послал кого-нибудь, чтоб ото лесом кто-нибудь набросился на меня... Пусть бы десяток, чи там сколько... я не знаю. Я стрелял бы, зубами кусав бы, рвал, как собака, аж пока убили бы... И знаете, чуть не плачу. И знаю ж: вы отут сидите и думаете: чи привезёт, чи не привезёт? Вы ж рисковали, правда?
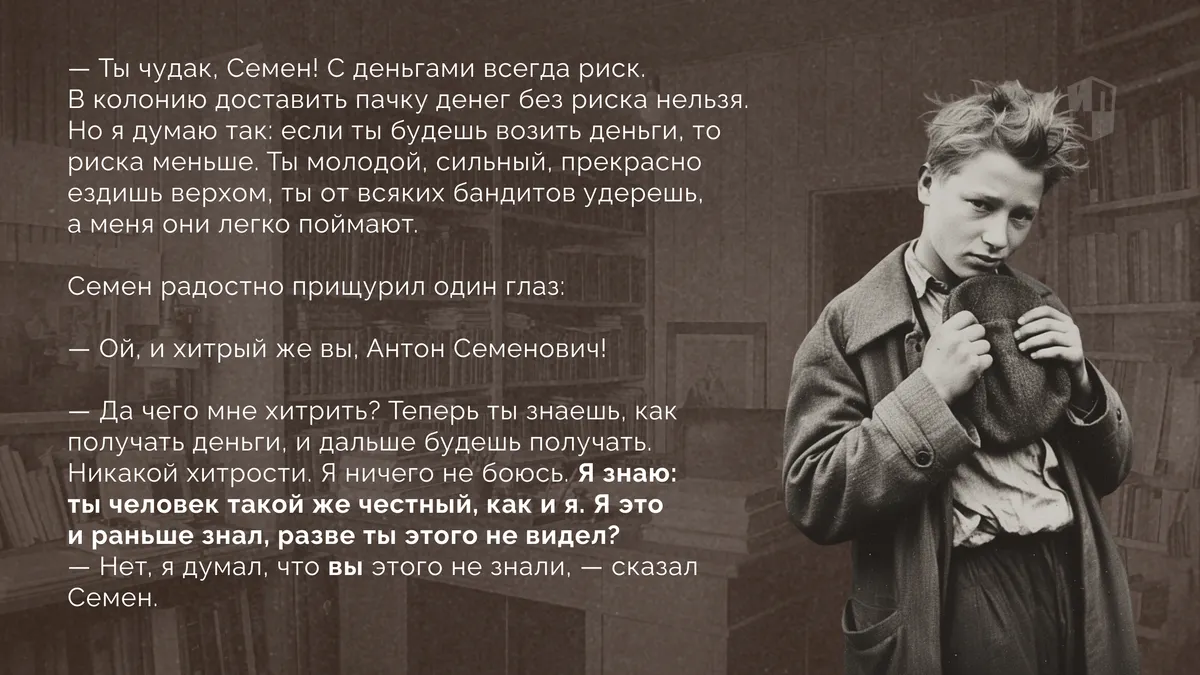
Фрагмент из «Педагогической поэмы»
Уважение у Макаренко тоже особое. Он уважал не то, что человек есть, а то, чем он может стать. «Я проектировал в человеке лучшее и требовал от него как от хорошего», — писал педагог. Это уважение к возможностям, а не к достижениям.
Одно из главных открытий Макаренко — принцип «параллельного педагогического действия». Вместо того чтобы воздействовать на отдельного воспитанника, педагог влияет на коллектив, а коллектив — на личность. Но влияние это должно быть взаимным: личность тоже формирует коллектив.
В практике это выглядело так: когда колонист Бурун воровал, Макаренко не наказывал его самолично. Он ждал, когда коллектив сам осознает, что его обкрадывают. Взрыв общего негодования стал тем «параллельным действием», которое изменило и Буруна, и весь коллектив.
Наконец-то дорвался до настоящего зла! Я привёл Буруна на суд народный, первый суд в истории нашей колонии. В негодующих и сильных тонах я описал ребятам преступление: ограбить старуху, у которой только и счастья, что в этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то, что никто в колонии так любовно не относился к ребятам, как она, ограбить в то время, когда она просила помощи, — это значит действительно ничего человеческого в себе не иметь, это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек их последнюю тряпку.
Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело, но на Буруна обрушились дружно и страстно.
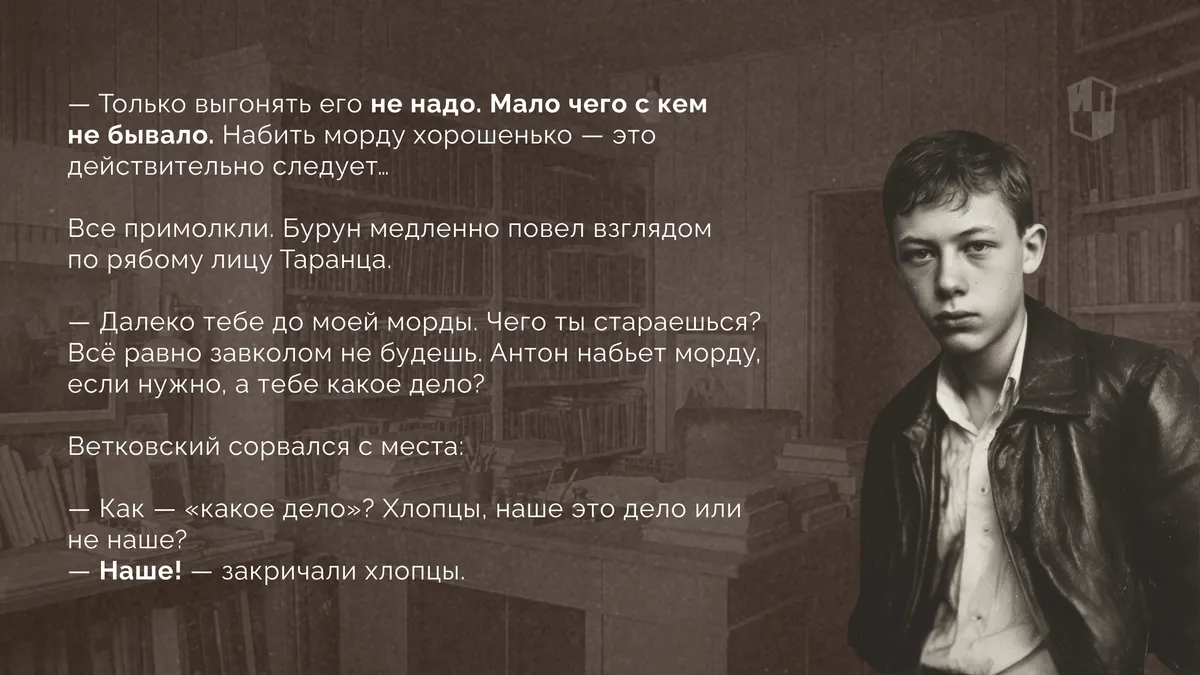
Фрагмент из «Педагогической поэмы»
Макаренко создал систему «перспективных линий» — близких, средних и дальних целей, которые должны вести коллектив вперёд. Близкая перспектива — завтрашний поход в театр. Средняя — переезд колонии на новое место. Дальняя — превращение выпускников в полноценных граждан советского общества.
«Человек не может жить без перспективы», — утверждал Макаренко. Но перспектива должна быть не абстрактной мечтой, а конкретной целью с ясным планом достижения.
Когда горьковцы мечтают о переезде в Запорожье, это не просто желание. Они детально планируют хозяйство, продумывают учебный процесс, представляют себе новый образ жизни.
Есть, как известно, два пути в области организации перспективы, а следовательно, и трудового усилия. Первый заключается в оборудовании личной перспективы, между прочим, при помощи воздействия на материальные интересы личности. Это последнее, впрочем, решительно запрещалось тогдашними педагогическими мыслителями. Когда дело доходило до самого незначительного количества рублей, намечаемых к выдаче ребятам в виде зарплаты или премии, на «Олимпе» подымался настоящий скандал...
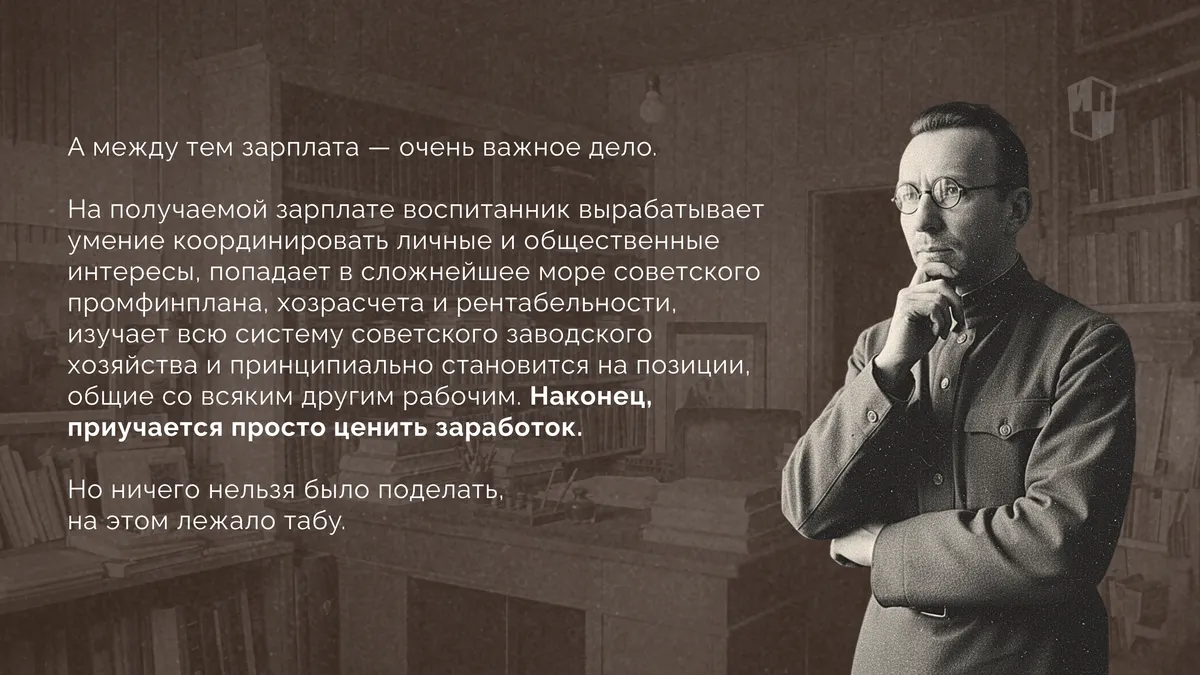
Фрагмент из «Педагогической поэмы»
Я имел возможность пользоваться только вторым путём — методом повышения коллективного тона и организации сложнейшей системы коллективной перспективы. От этого метода не так пахло нечистой силой, и «олимпийцы» терпели здесь многое, хотя и ворчали иногда подозрительно.
Макаренко был одним из первых, кто понял воспитательное значение традиций. В его колониях сложился целый свод обычаев: торжественные линейки, праздник первого снопа, особая форма одежды, ритуалы встречи новичков и проводов выпускников.
Традиции создавали эмоциональную память коллектива, связывали поколения колонистов, формировали чувство принадлежности к особому сообществу. Когда бывший беспризорник надевал колонистскую форму, он получал новую идентичность — переставал быть «никем» и становился горьковцем или дзержинцем.
Макаренко жёстко критиковал два главных педагогических течения своего времени. «Свободное воспитание» он считал безответственным попустительством, которое оставляет ребёнка один на один со стихией собственных инстинктов. Педологию — за фатализм и неверие в возможности человека.
— На хлеб и воду не сажаю, но обедать иногда не даю. И наряды. И аресты могу, конечно, не в карцере — у себя в кабинете. У вас правильные сведения.
— Послушайте, но это же всё запрещено.
— В законе это не запрещено, а писания разных писак я не читаю.
— Не читаете педологической литературы? Вы серьёзно говорите?
— Не читаю вот уже три года.
— Но как же вам не стыдно! А вообще читаете?
— Вообще читаю. И не стыдно, имейте в виду. И очень сочувствую тем, которые читают педологическую литературу.
— Я, честное слово, должна вас разубедить. У нас должна быть советская педагогика.
Я решил положить предел дискуссии и сказал Любови Савельевне:
— Знаете что? Я спорить не буду. Я глубоко уверен, что здесь, в колонии, самая настоящая советская педагогика, больше того: что здесь коммунистическое воспитание.
«Нет детей безнадёжных», — утверждал Макаренко против педологов, которые детей делили на «нормальных» и «дефективных». «Нет методов универсальных», — возражал он сторонникам готовых рецептов. Каждая педагогическая ситуация уникальна и требует творческого подхода.
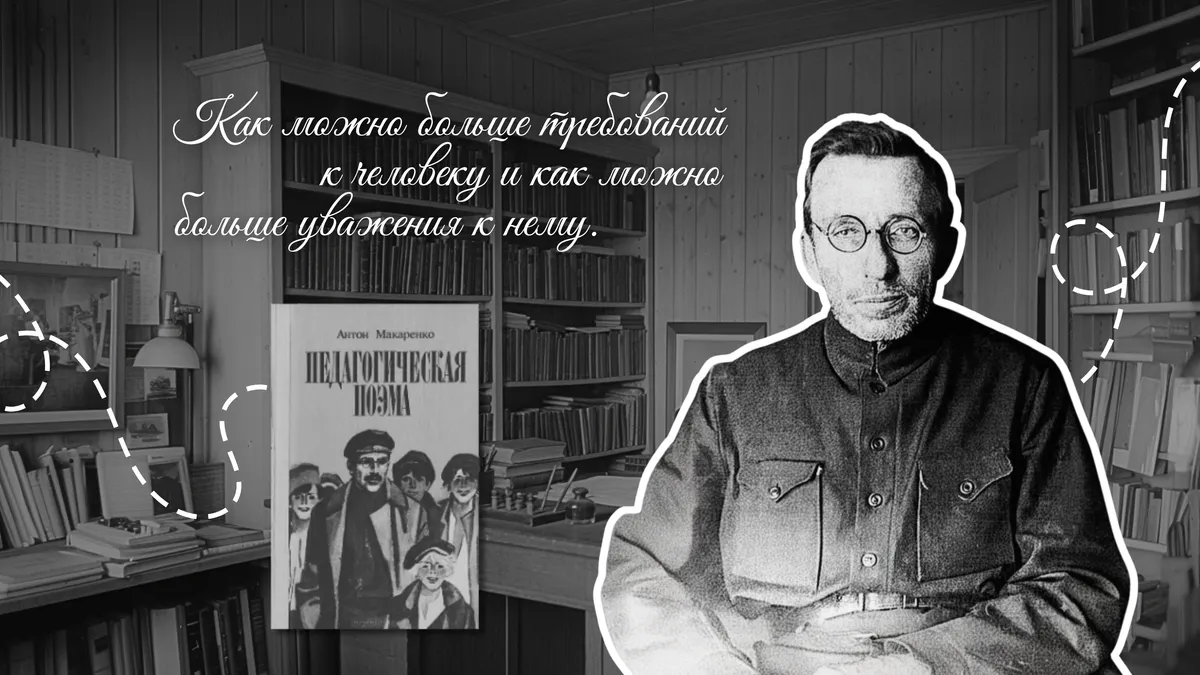
История о колонии, где сломанные становились целыми: Антон Макаренко
Система Макаренко выходит далеко за рамки работы с трудными подростками. Это философия воспитания нового человека — человека, который живёт интересами коллектива, но не растворяется в нём; который умеет подчиняться, но способен и руководить; который соединяет культуру с практическими навыками.
«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастлив, можно», — писал Макаренко. Его педагогика счастья основана на простой истине: человек счастлив тогда, когда он нужен людям, когда его труд имеет смысл, когда у него есть товарищи и перспективы.
Сегодня, когда мир ищет ответы на вызовы индивидуализма и социального отчуждения, педагогическая система Макаренко выглядит не устаревшей, а удивительно современной. Ведь потребность человека в смысле, в принадлежности к сообществу, в уважении и перспективах — вечна.


Педагог-психолог, историк, журналист, пишущий редактор
Понравился материал? Расскажите другим